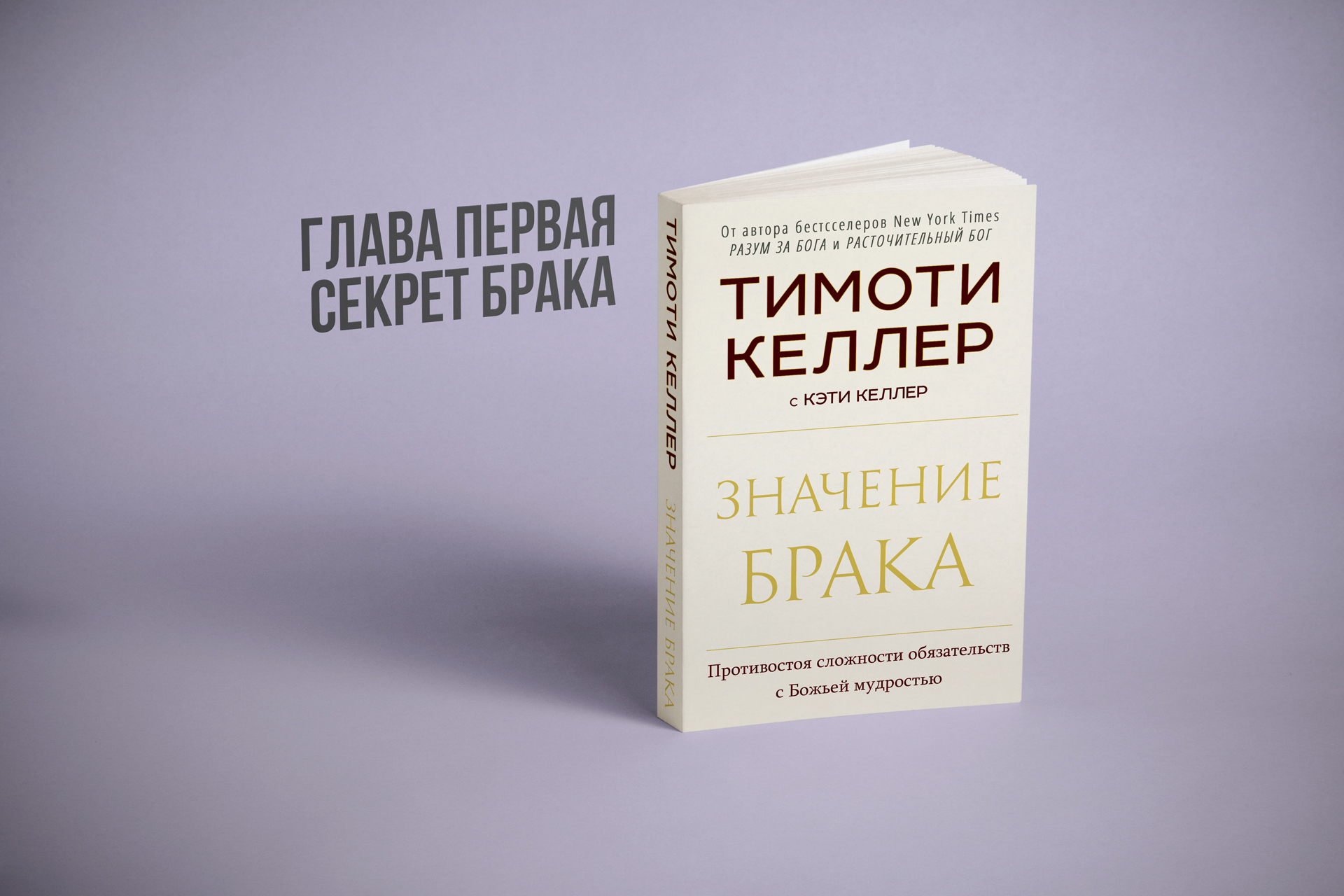Когда-то вера в желательность и доброту брака была всеобщей, но теперь это не так. В недавнем отчете Национального проекта брака Университета Вирджинии делается следующий вывод: «Менее трети девочек [старшеклассниц] и лишь немногим более трети мальчиков, похоже, считают… что брак более выгоден для людей, чем альтернативы. Однако такое негативное отношение противоречит имеющимся эмпирическим данным, которые неизменно указывают на существенные личные и социальные преимущества брака по сравнению с тем, чтобы оставаться одиноким или просто жить с кем-то». В отчете утверждается, что взгляды большинства молодых людей не только не поддерживаются консенсусом старшего поколения и противоречат учению всех основных мировых религий, но и не подтверждаются накопленными данными новейших социальных наук.
Так откуда же взялся этот пессимизм и почему он так оторван от реальности? Как это ни парадоксально, пессимизм может быть вызван новым видом нереалистичного идеализма в отношении брака, порожденным значительным сдвигом в понимании нашей культурой цели брака. Юрист Джон Витте-младший говорит, что прежний «идеал брака как постоянного договорного союза, созданного ради взаимной любви, продолжения рода и защиты» постепенно уступает место новой реальности брака как «окончательного полового контракта», предназначенного для удовлетворения индивидуальных потребностей».
Витте указывает, что в западных цивилизациях существовало несколько противоположных взглядов на то, какими должны быть «форма и функция» брака. Первые два были католическими и протестантскими взглядами. Хотя во многих отношениях они различались, они оба учили, что цель брака — создать основу для пожизненной преданности и любви между мужем и женой. Это была торжественная узы, призванная помочь каждой стороне подчинить индивидуальные импульсы и интересы в пользу отношений, быть таинством любви Бога (акцент католицизма) и служить общему благу (акцент протестантского характера). Протестанты считали, что брак дан Богом не только христианам, но и на благо всего человечества. Брак создавал характер, объединяя мужчин и женщин в обязательные партнерские отношения. В частности, брак на всю жизнь рассматривался как единственный вид социальной стабильности, в которой дети могли расти и процветать. Причина, по которой общество было заинтересовано в институте брака, заключалась в том, что дети не могли процветать так же хорошо в любой другой среде.
Однако Витте объясняет, что новый взгляд на брак возник в эпоху Просвещения восемнадцатого и девятнадцатого веков. Старые культуры учили своих членов находить смысл в долге, принимая отведенные им социальные роли и добросовестно выполняя их. В эпоху Просвещения все начало меняться. Смысл жизни стал рассматриваться как плод свободы человека выбирать жизнь, которая больше всего удовлетворяет его или ее лично. Вместо обретения смысла через самоотречение, отказ от своих свобод и привязанность к брачным и семейным обязанностям, брак был переопределен как поиск эмоционального и сексуального удовлетворения и самореализации.
Сторонники этого нового подхода не видели сущности брака ни в его божественной сакраментальной символике, ни как социальных связей, данных на благо более широкого человеческого сообщества. Скорее, брак рассматривался как договор между двумя сторонами для взаимного индивидуального роста и удовлетворения. С этой точки зрения, состоящие в браке люди вступают в брак для себя, а не для выполнения обязанностей перед Богом или обществом. Таким образом, сторонам должно быть разрешено вести свой брак так, как они сочтут выгодным для себя, и на них не следует возлагать никаких обязательств перед церковью, традициями или более широким сообществом. Короче говоря, Просвещение приватизировало брак, исключив его из публичной сферы, и переопределило его цель как личное удовлетворение, а не какое-либо «более широкое благо», такое как отражение природы Бога, создание характера или воспитание детей. Медленно, но, верно, это новое понимание значения брака вытесняет старые в западной культуре.
Это изменение было очень застенчивым. Недавно обозреватель New York Times Тара Паркер-Поуп написала статью под названием «Счастливый брак — это брак «я»»:
Представление о том, что лучшие браки — это те, которые приносят удовлетворение человеку, может показаться нелогичным. В конце концов, разве брак не должен ставить отношения на первое место? Уже нет. На протяжении веков брак рассматривался как экономический и социальный институт, а эмоциональные и интеллектуальные потребности супругов были вторичными по отношению к выживанию самого брака. Но в современных отношениях люди ищут партнерства и хотят партнеров, которые делают их жизнь интереснее. . . [кто] помогает каждому из них достичь поставленных целей.
Это изменение было революционным, и Паркер-Поуп без стеснения излагает его. Раньше брак был общественным институтом для общего блага, а теперь он стал частной договоренностью для удовлетворения отдельных лиц. Раньше брак был связан с нами, но теперь он касается меня.
Но по иронии судьбы этот новый взгляд на брак на самом деле возлагает на брак и супругов тяжелое бремя ожиданий, чего никогда не было в более традиционных представлениях. И это оставляет нас в ловушке между нереалистичными стремлениями и ужасными страхами по поводу брака.